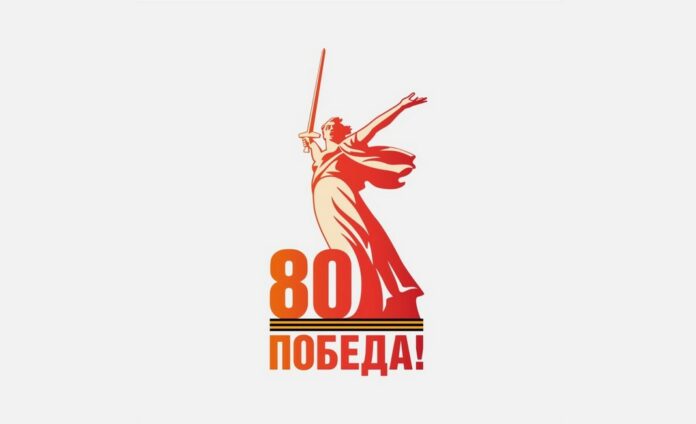Году защитника Отечества посвящается…
Решение объявить 2025-й Годом защитника Отечества и посвящённым 80-летию Великой Победы было принято Президентом России Владимиром Путиным не случайно. Это своеобразный посыл всему миру объединиться против нацизма и отстоять историческую правду. Это стало необходимостью на фоне попыток некоторых государств стереть память о подвиге нашего великого народа в спасении целого человечества, поэтому касается каждого.
Среди плакатов военных лет и чёрно-белых фотографий привлекла внимание ребят большая картина, где боец поил из фляжки девушку, лежащую на снегу. И не понятно, то ли ранена она, то ли цела, но полностью выбилась из сил.
– А почему картина называется «Сестра»? Это что, брат с сестрой вместе воевали? А что, женщин на войну тоже брали, это же не женское дело? – заволновался Денис.
– Видите на сумке красный крест? Эта девушка на картине – медсестра, в войну девушек призывали очень много, – пояснила Анна Сергеевна. – Медицинских сестёр бойцы часто звали сестричками, да и относились к ним с большой теплотой. Ведь эти хрупкие девушки и женщины спасали сотни тысяч жизней, выносили на себе раненых мужчин из боя, обрабатывали раны, выхаживали бойцов. Но нередко медсёстры сами получали ранения и гибли.
Автор этой картины – ленинградец Фёдор Васильевич Савостьянов – сам прошёл всю войну простым солдатом, был трижды ранен, и не понаслышке знал о каждодневных подвигах медицинских сестёр.
История, рассказанная картиной
 Мария Фёдоровна Шиврина в 19 лет, едва окончив медицинский техникум, добровольцем ушла на фронт. Училась на акушера, но пришлось осваивать военно-полевую хирургию. После Мария Шиврина вспоминала:
Мария Фёдоровна Шиврина в 19 лет, едва окончив медицинский техникум, добровольцем ушла на фронт. Училась на акушера, но пришлось осваивать военно-полевую хирургию. После Мария Шиврина вспоминала:
«Военному ремеслу нас учили без всяких скидок. Наши наставники твердили, что пуля не разбирает, где женщина, где мужчина, и надо уметь делать всё то, что необходимо в бою. Поэтому от подъёма до отбоя мы проводили время в походах и марш-бросках. Особое внимание уделялось изучению материальной части стрелкового оружия и умению из него стрелять. Приходилось ползать по-пластунски и постигать азы штыкового боя.
В начале 1942-го мы оказались под Сталинградом. В небе вороньём кружили немецкие бомбардировщики и штурмовики, сбрасывая на наши головы сотни бомб и устраивая охоту на отдельные огневые точки. Убитых не успевали хоронить, а раненых удавалось увозить с поля сражения только под покровом ночи. Наших зенитчиков упрекнуть было нельзя, но на место одного сбитого бомбардировщика прилетали несколько новых, не давая нам поднять головы. И так несколько месяцев.
Я находилась рядом с зенитными расчётами и видела их старания. Но немцы с воздуха заметили артиллеристов и организовали на них охоту. В центре внимания оказались два расчёта зенитчиков. Первое попадание разметало один из расчётов, не оставив в живых ни одного из артиллеристов, раненых оказалось много. Слились воедино дым, крики о помощи и гул самолётов. Я подбежала к ближайшему, истекающему кровью бойцу, чтобы оказать первую помощь, и тут взорвалась вторая авиабомба. Меня взрывной волной бросило на станину орудия, я сильно ударилась головой и, теряя сознание, ощутила, как руки и ноги пронзила острая боль, вызванная осколочными ранениями…
Как рассказал потом санинструктор, меня без сознания, почти безжизненную, вынесли на безопасное место, оказали первую медицинскую помощь и срочно отправили в Балашов. А оттуда на санитарном поезде увезли в Кунцево. Врачи хотели ампутировать руку, но пожалели молодую девушку. В течение трёх месяцев в военном госпитале меня учили ходить, говорить (ведь я получила контузию), двигать руками и делать физические упражнения. Только операций было проведено три… Но всё же я вернулась в строй, хоть и стоял вопрос о моей демобилизации в связи с ранением».

– А это что за железки в витрине лежат? Тоже что ли экспонаты? – удивился Никита.
– Это осколки разорвавшихся осколочных снарядов. При взрыве каждый такой снаряд превращается в облако стремительно летящих смертельных кусков металла, – с печалью ответила экскурсовод, – очень много во время Великой Отечественной войны от таких «железок» людей погибло.
История, рассказанная осколком

Екатерина Ивановна Субботина в 16 лет, приписав себе год в документах, пошла в армию. Сначала работала в госпитале в Свердловске, а потом попала на фронт, в полевой госпиталь, куда так страстно рвалась. Екатерина Субботина рассказывала:
«То, что мы увидели на месте лечебного учреждения, не выразить словами… Госпиталь лежал в руинах, а фашистские стервятники продолжали вершить своё чёрное дело – сбрасывать смертельный груз на то, что ещё уцелело. Вскоре они всё же улетели. И перед нами предстало страшное поле, на котором недавно возвышалось здание госпиталя. Убитые и раненые лежали повсюду, повсюду крики и отчаянные просьбы о помощи…
Я плохо помню, как подбежала к первому раненому красноармейцу, как успокаивала его и оказывала первую помощь. Затем был второй и третий… У многих к пулевым ранениям прибавились ещё и осколочные. Каждая минута могла решить исход жизни изувеченных людей, поэтому никто и не думал об отдыхе. До сих пор помню лица тех, кому уже не нужен был врач, а требовался священник. Они умирали на моих глазах, пытаясь произнести последние слова уже почти безжизненными губами. Их было очень-очень много.
Всё же мы смогли оказать необходимую помощь тем, кто в ней нуждался. Спасательной операцией командовал начальник госпиталя, чьи голова и руки были забинтованы. Персонал и транспорт работали чётко, и вскоре всем раненым была оказана помощь, все погибшие похоронены. Так я получила своё первое «боевое крещение».
Госпиталь, как воинская часть, уцелел, и мы снова оказались при деле. Работали сутками в тяжёлых условиях. Порой сложные операции приходилось выполнять на полу, под светом керосиновой лампы, используя подручные средства. Не хватало перевязочного материала и анестезирующих средств. А раненые поступали ежедневно. На сон отводилось несколько часов. Но никто не роптал. Все понимали, что в наших руках жизнь и судьба раненых».
Редакция благодарит за помощь в подготовке материалов рубрики заведующего научно-исследовательским отделом Музейно-выставочного комплекса Александру Гришук.